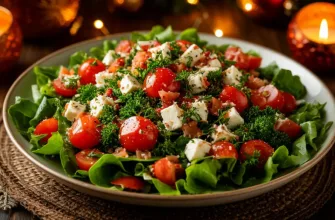«Вдова» при живом муже: какие русские женщины ими становились
«Вдова» при живом муже: какие русские женщины ими становились
В русской крестьянской общине супружеская верность считалась важным элементом семейной жизни. Тем не менее, как и в любых правилах, имелись исключения, и их было несколько.
Отхожие промыслы
«Вдовой при живом муже» зачастую становились жёны отходников – мужчин, временно покидавших свои места жительства и уезжавших в другие регионы на заработки.
Отходничество было широко распространено в крестьянской среде имперской России XVIII — начала XX века. По статистике, в 1880-х годах на европейской территории страны ежегодно насчитывалось свыше 5 миллионов отходников.
Покидая родной дом, они находили работу в различных промыслах (кустарные ремёсла), а затем и на заводах. Обычно отходничество имело сезонный характер, и вскоре мужья возвращались к жёнам и детям с хорошим материальным доходом. Однако нередко случалось, что отправившийся на промысел супруг быстро забывал о своих близких, и, увлечённый иногородней жизнью, не спешил возвращаться домой, более того, заводил вторую семью на новом месте.
Законные жёны оказывались в непростой ситуации, вынуждены были жить в одиночестве при живом муже. Долгое время терпеть такое положение могли только самые стойкие женщины. Другие выбирали не грустить, а проводить вечера в обществе любовника.
Солдатки
«Вдовами при живых мужьях» в России чаще всего называли жён солдат в XVIII-XIX веках, отбывавших рекрутскую повинность в регулярной армии, срок которой изначально был пожизненным, а затем сократился до 20 лет.
Поскольку призывной возраст был неопределённым и варьировался между 20 и 35 годами в зависимости от политической ситуации, мужчины успевали жениться, а уходя на службу, оставляли молодых супруг одних. И хотя с этого момента солдатки получали статус свободных гражданок под управлением военного ведомства, они лишались возможности создать уютный и счастливый дом.
В военно-статистических описях Тамбовской губернии указано, что из 12 650 солдаток только 650 имели право регулярно встречаться с мужьями, тогда как остальные жили раздельно и испытывали одиночество без супружеской ласки.
Приобретя статус «соломенных вдов», одни солдатки предпочитали оставаться верными мужу, а другие не стеснялись измен, чтобы удовлетворить свои желания. Заметим, что последние бросали тень на всех рекрутских жён, которых в обществе считали развратницами.
В архивах этнографа Вячеслава Тенишева имеется такая запись: «Выходя замуж в большинстве случаев в 17-18 лет, к 21 году солдатки-крестьянки остаются без мужей. Крестьяне вообще не стесняются в удовлетворении своей естественной потребности, а у себя дома — тем более… страсть солдатки разгорается от того, что она становится невольной свидетельницей супружеских отношений старшей её невестки и её мужа».
Тем не менее, общество с пониманием относилось к блуду солдаток, как и к рождению у них незаконнорожденных детей, которые, как ни парадоксально, записывались на фамилию служащего мужа. Родственники рекрута часто поощряли измены и сожительства невесток с другими мужчинами, так как в таком случае они переставали оказывать ей физическую и материальную поддержку, перекладывая эти обязанности на нового суженого.
Более того, в Ярославской губернии всю вину за разгульный образ жены возлагали на законного супруга, которого осуждали за поспешный брак и оставление молодой женщины: «Муж не терпит, а она и подавно не будет терпеть, – он раззадорил её, да и ушел, не женился бы, коль не пошел на службу …».
Из записок публициста Александра Энгельгардта становится ясным, что положение солдаток было почти безвыходным, и если те, кто имел детей, могли рассчитывать на материальную помощь со стороны государства, то бездетные жёны рекрутов не получали ни копейки и были вынуждены самостоятельно искать средства к существованию.
В свою очередь, в исследовании Зинары Зиевны Мухиной «Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: традиции и динамика перемен в пореформенной России» отмечается, что государство не всегда вовремя выполняло свои обязательства по обеспечению семей рекрутов необходимыми пособиями, а с 1874 года и вовсе перестало оказывать им какую-либо поддержку.
Недостаток денег заставлял солдаток искать работу. Некоторые становились сиделками, прачками, горничными, продавщицами, а другие предпочитали зарабатывать на жизнь, торгуя своим телом. По подсчётам полицейских в середине XIX века каждая пятая солдатка работала «девушкой по вызову».
В монографии Владимира Безгина «Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века)» упоминается, что именно солдатки составляли основную часть девушек, занимающихся проституцией в сельской местности.
Проблемы со здоровьем
«Вдовой при живом муже» считались те женщины, чьи супруги страдали от заболеваний и, в результате этого, не могли исполнять свой супружеский долг. Если лечение народными средствами не приносило желаемого результата, и мужская сила не восстанавливалась, неудовлетворённые женщины начинали искать любовные утехи на стороне.
Такое поведение в крестьянской среде не приветствовалось, но и не осуждалось слишком строго, так как оправдывалось веской причиной. В деревнях женщины в таких случаях говорили: «Что ж с больным лежать – только себя мучить».
Нелюбовь
Случалось, что муж и жена, хотя и жили под одной крышей, не испытывали друг к другу тёплых чувств. Поскольку разводы в России не были распространены, супругам приходилось терпеть друг друга и, находясь в браке, заводить любовные отношения на стороне. Такое поведение осуждалось обществом, но имело место.
Арест
Стать «вдовой при живом муже» можно было после отправки супруга на срочную каторгу (10, 15, 20 лет) или его длительного заключения в тюрьму. Ожидая выхода на свободу законного супруга, жёны порой грешили, заводя предосудительные любовные связи.
Источник: russian7.ru